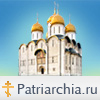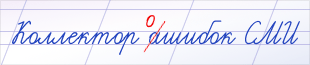О конформизме, политике и правдивой истории Церкви
8 декабря 2015
На письмо Андрея Кравцева, докторанта богословия (№ 220 от 24.11.2015, с. 06)
Вслед за моим корреспондентом Андреем Кравцевым сразу скажу, что со многим в его тексте я, будучи христианином, безусловно согласен. Более того, полагаю, что именно в силу общего политического перегрева медийного и общественного поля, а также стремления к маркировке позиций по профессиональной или социальной принадлежности (раз церковный чиновник, значит — конформист и проч.), автор смог найти в моем тексте не только то, что там не предполагалось, но и то, что — даже при самых смелых толкованиях — из него non sequitur, «не следует». Это распространенная логическая ошибка. Но написать хотелось бы о другом.
Если я правильно понял моего уважаемого корреспондента, его критика связана не с тем, что я пишу о свободе христианина при любой власти и проч., но с тем, что сегодня наша Церковь, по мнению г-на Кравцева, не делает: а именно, не возвышает свой голос против порочных явлений в государстве и обществе. Видимо, автор исходит, во-первых, из презумпции самоочевидности пороков «режима», отсутствие постоянной жесткой критики которого и объявляется конформизмом. Во-вторых, именно эта задача полагается сегодня важной (важнейшей?) для Церкви.
Моя же позиция заключается в том, что подобная оценка текущей ситуации при таком раскладе является именно и только политической. Поэтому Церкви, чтобы удовлетворить таких критиков, пришлось бы занять именно политическую позицию — на уровне ее официальных структур. Последнее вызвало бы не только критику, не менее острую, чем у моего оппонента (просто со стороны других политических сил), но и понудило бы Церковь заниматься тем, чем ей заниматься совсем не пристало — собственно политической деятельностью.
Каждый по-своему видит идеальное государство, но христианину очевидно, что этот институт, вызванный к жизни грехопадением человека, по определению не может стать совершенным в пределах земной истории человечества. Более того, сама Церковь в своей организационной природе несет отпечаток тех несовершенств, которые характерны для современных ей государства и общества, потому что состоит из тех же людей. Прекрасно понимая это, еще Блаженный Августин (354–430) сформулировал свою концепцию «двух градов» — земного и небесного. Примечательно, что Августин настаивал на том, что в земной жизни, включая жизнь земной Церкви — верующих людей, — оба эти града перемешаны и только в вечности мы узнаем, кто к какому принадлежит. Конечно, эта концепция не имеет статуса догматического учения, однако было бы неправильным игнорировать интуиции великого святого ранней Церкви. Тем более что интуиции эти полностью согласуются с евангельской притчей о пшенице и плевелах.
Можно вспомнить, что и среди учеников Спасителя был предатель, который воровал жертвуемые деньги. Воровство Иуды существовало, судя по всему, вплоть до самого последнего момента, пока не закончилось еще худшим — предательством. И что же: сообщество Христа и Его апостолов тоже следует назвать «порочным институтом», который «неэффективно борется с внутренними злоупотреблениями»? Конечно, от любого такого примера можно отмахнуться: ну когда это было! То Евангелие, а то — жизнь. Но ведь все дело в том, что Евангелие — именно о жизни.
И острие нашей с уважаемым докторантом дискуссии именно об этом: оставаясь в предложенной им логике, нельзя найти ни одного периода в истории Церкви, когда тех или иных представителей последней нельзя было бы при желании обвинить в конформизме. Некогда император Константин созвал и возглавил «собрание конформистов» — епископов христианской Церкви, подчинившихся воле язычника — главы государства. Собрание это вошло потом в историю как Первый Вселенский собор, а председательство императора никак не повредило ценности принятых там догматов. Вроде бы само по себе председательство язычника (пусть уже формального) на соборе отцов Церкви не может радовать христианина. Но представьте себе альтернативу: епископы, проклявшие язычника Константина с его претензиями на «сакральную» власть, сорванный собор, возможно, отказ императора от крещения. Что дальше?
Я совсем не к тому, что Церковь должна закрывать глаза на несовершенства и в своей среде, и в сфере государственного управления. Этого и не происходит. Церковь осуждает грехи властей предержащих, которые в среднем имеют их не меньше и не больше, чем те, кто властью не обладает. Просто иногда это другие грехи. Известна, например, несовпадающая позиция Церкви и государственных структур по ряду вопросов, которые не всегда становятся известны широкой публике. Но от этого до непосредственного участия в политической борьбе — большой шаг, сделав который Церковь неизбежно превратится из Тела Христова в заурядную политическую партию и прекратит свое существование — как Церковь. Мой корреспондент может и не знать, что представители Русской Православной Церкви последовательно выступают с осуждением общественных пороков (а не «порочных структур»), например коррупции, причем не только публично. Я сам неоднократно был свидетелем совсем не комплиментарных разговоров Святейшего Патриарха Кирилла с чиновниками разного уровня. Известна не популярная ни среди власти, ни среди части наших сограждан позиция Русской Православной Церкви против нахождения абортов в системе ОМС. И переговоры на эту тему ведутся весьма жесткие. Это тоже конформизм?
При этом мне как профессиональному политологу, имеющему вместе с тем богословское образование, ничего не известно о понятии «порочных общественных и политических структур», которое использует мой уважаемый оппонент. Есть конкретные люди, которые бывают порочны, независимо от того, несут они государственное, общественное или какое-либо еще служение, и христианин, как справедливо отмечает Кравцев, не может участвовать в делах таких людей.
Увы, Церковь и верующие не могут создать идеального государства. Существует множество исторических примеров, которые не буду здесь приводить, так как убежден, что все они хорошо известны моему собеседнику. Не буду говорить и о печальной судьбе европейской христианской демократии, в которой от христианства осталось не так много.
Должна ли Церковь возвышать свой голос против общественных пороков? Безусловно. Вопрос один: как это делать? Официальными заявлениями синодальных структур или через изменение общества, воспитание людей? Думаю, важны оба способа. При этом глубоко убежден в том, что главное служение Церкви осуществляется в изменении человеческого сердца. Повторяю, это совсем не значит, что Церковь не должна давать публичной нравственной оценки происходящему в обществе и государстве. Отсутствие такой оценки было бы низведением веры до «вашего частного дела», что глубоко противоречит православному пониманию места христианства в жизни и для веры разрушительно. В пределе такой подход охарактеризовал Питирим Сорокин, заметив, что «в воскресенье пуританин верит в Бога, а в остальные дни — в фондовую биржу». Но противоположная крайность также известна истории. Фра Иероним Савонарола, один из ярчайших представителей западноевропейского средневекового христианства, справедливо и жестко обличал пороки своих современников. Чем и снискал колоссальное уважение и поддержку многих. Однако скоротечность и бесславность «правления» Савонаролы во Флоренции связана не только с противостоянием властям, светским или церковным, но именно c тем, что в какой-то момент пророческая функция Церкви превратилась в полицейскую в поступках его многочисленных последователей.
Поэтому вновь и вновь мы возвращаемся к исходному вопросу: к чему призвана Церковь Спасителем? В лице каждого отдельного человека и в лице церковных институций? Прежде всего обращать Благую Весть к сердцу людей, надеясь на то, что преображенный верой человек преобразит и окружающий мир. У нас нет иного рецепта для государства и общества, чем тот, который оставил нам преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Он сказал именно это, а многим, может быть, казалась бы более важной борьба за восстановление нормального церковного устройства, разрушенного Петром I, или за отмену крепостного права. Думаю, если бы Серафим Саровский обратился с каким-либо общественным призывом, то за ним, быть может, пошло бы не меньше людей, чем за Лютером. Только последователи Лютера не создали ни идеальной Церкви, ни идеального государства, ни идеального общества, зато пролили много крови в религиозных войнах, навсегда расколовших духовное единство Европы. А ведь были движимы благими намерениями и справедливо указывали на действительные общественные и церковные пороки.
Поэтому в первую очередь надо прилагать усилия, чтобы сделать ценности небесного Отечества реальностью в жизни Отечества земного. Настолько, насколько это возможно. Насколько есть силы. Сердце христианина не может соглашаться на попрание человеческого достоинства кем бы то ни было, в том числе и государством. Другое дело, что борьба за социальную справедливость не может быть автоматически ассоциирована со святостью. Святитель Иоанн Златоуст, о котором говорится в статье Кравцева, умер в изгнании, но канонизирован Церковью вовсе не за борьбу с пороками византийской императрицы. Точно так же странно думать, что Христос пришел на землю с благой вестью о недопустимости гладиаторских боев или рабства, которые, кстати, осуждались в античности многими задолго до христианства. Или ради борьбы с апартеидом в ЮАР.
Он принес рабам и патрициям, гладиаторам и вольноотпущенникам, белым и черным весть о том, что они могут быть в вечности с Ним, оставив свои грехи, а перед этим меркнет даже борьба в Индии с варварским обычаем сати, о которой пишет Андрей Кравцев. Борьба важная, благородная, но не сопоставимая с искупительным подвигом Христа.
И задача-то наша как Церкви в том, чтобы очередной собирательный (а на самом деле каждый раз живой и конкретный) император-язычник, или бюрократ-взяточник, или полицейский-беспредельщик, пусть пытающиеся пока судить о Церкви в доступных им языческих понятиях власти-подчинения, были бы ей не осуждены бесповоротно, не навсегда отвергнуты, но увидели бы перед собой путь к тому, чтобы и им покаяться и стать святыми. Ведь и вокруг них тоже могут спастись тысячи. Надо верить в человека, ради которого Бог сошел с небес.